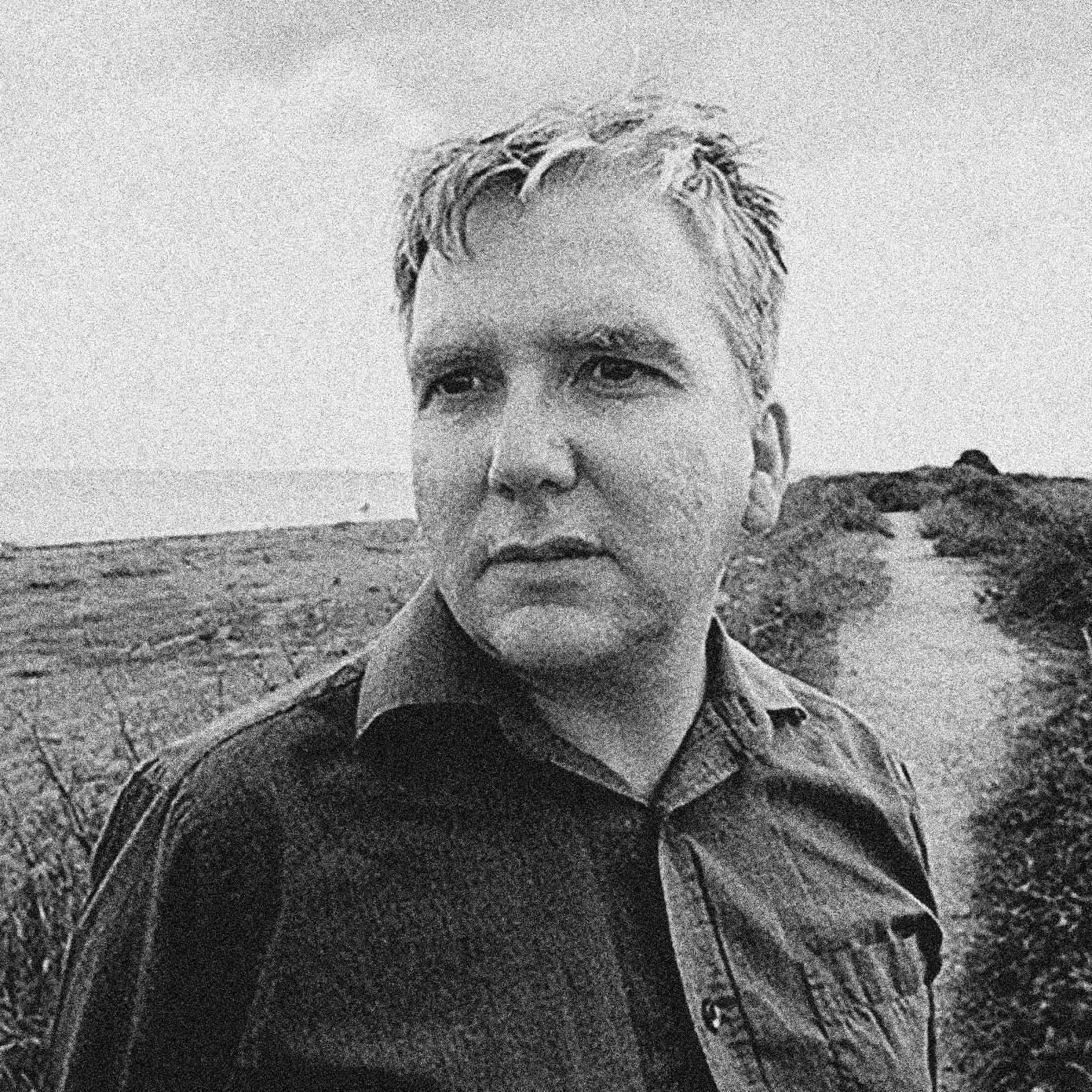«Тело — месиво щупалец». Гротеск и weird: The Fall [1]
Марк Фишер (пер. Михаила Постникова)
KOBLOVE
Влад Гагин
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
KOBLOVE
Влад Гагин
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст
Слово «гротеск» происходит от типа римского орнамента, впервые обнаруженного в XV веке при раскопках терм Тита. Названные в честь «гротов», в которых они были найдены, новые изображения состояли из фигур людей и животных, перемешанных с листвой, цветами и фруктами в фантастических узорах, которые не имели никакого отношения к логическим категориям классического искусства. За свидетельством современников об этих узорах мы можем обратиться к латинскому писателю Витрувию. Витрувий был чиновником, занимавшимся восстановлением Рима при Августе, которому и адресован его трактат об архитектуре. Неудивительно, что в нём жёстко осуждается «безвкусие» гротеска: «Ничего подобного нет, не может быть и не было», — говорит автор, описывая перемешанные человеческие, животные и растительные формы: «Как же, в самом деле, можно тростнику поддерживать крышу, или подсвечнику — украшения фронтона, или стебельку, такому тонкому и гибкому, поддержать сидящую на нём статуэтку, или из корней и стебельков вместо цветов вырасти раздвоенным статуэткам? Но тем не менее люди, видя весь этот вздор, не бранятся, а наслаждаются им, и не обращают внимания, возможно ли что-нибудь из этого или же нет».
Патрик Пэрриндер, «Джеймс Джойс».
Если истории Уэллса [2] — это пример меланхоличного weird’a, то мы можем рассмотреть еще одно его измерение, подумав о взаимосвязи странного и гротеска. Как и weird, гротеск создает ощущение чего-то неуместного. Появление гротескного объекта может вызвать как смех, так и отвращение, и в своем исследовании гротеска Филипп Томсон утверждал, что гротеск часто характеризуется совместным присутствием смешного и того, что несовместимо со смешным. Эта способность вызывать смех означает, что гротеск, возможно, лучше всего понимать как особую форму weird’а. Трудно представить себе гротескный объект, который было бы нельзя воспринимать и как странный, но есть странные явления, которые не вызывают смеха — например, рассказы Лавкрафта, редкий юмор которых носит случайный характер.
Сочетание странного и гротескного лучше всего иллюстрируют песни пост-панк группы The Fall. Творчество The Fall — особенно в период между 1980 и 1982 годами — изобилует отсылками к гротеску и weird’у. Метод группы в этот период ярко отражен на обложке сингла 1980-го года City Hobgoblins, где мы видим городской пейзаж, в который вторглись «эмигранты со старых зелёных полян»; над полуразрушенным домом нависает ухмыляющийся злобный кобольд. Но вместо того, чтобы быть органично вписанным в фотографическую сцену, грубо нарисованный хобгоблин изображён на заднем плане. Это война миров, онтологическая борьба, борьба за средства репрезентации. С точки зрения официальной буржуазной культуры и её категорий, такая группа, как The Fall (экспериментаторы и поп-модернисты из рабочего класса), не могла и не должна была существовать, и The Fall замечательны тем, как они продвигали культурную политику weird’а и гротеска. The Fall произвели на свет то, что можно назвать популярным модернистским weird’ом, где странное организует как форму, так и содержание произведения. The weird tale [3] сближается со странностями модернизма — его остранением, сочетанием элементов, ранее считавшихся несочетаемыми, суггестией, вызовом стандартным шаблонам удобочитаемости — и со всеми трудностями и компульсиями постпанк-звучания.
Многое из этого, хотя и в неясной и загадочной форме, собрано воедино на альбоме The Fall 1980-го года Grotesque (After the Gramme). Непонятные отсылки к «черничным маскам», «человеку с бабочками на лице», «страусиному головному убору» и «светло-голубым головам растений» начинают обретать смысл, когда понимаешь, что, по описанию Пэрриндера, приведённому выше, гротеск изначально обозначал «фигуры людей и животных, перемешанных с листвой, цветами и фруктами в фантастических узорах, которые не имели никакого отношения к логическим категориям классического искусства».
Песни в альбоме Grotesque — это сказки, но сказки недосказанные. Слова отрывочны, будто дошли до нас по ненадёжному каналу постоянно прерывающейся связи. Точки зрения смещены, онтологические границы между автором, тестом и персонажем расплывчаты и изломаны. Невозможно окончательно отделить слова рассказчика от прямой речи. Треки представляют собой палимпсесты, плохо записанные в нарочитом отказе от эстетики «кофейного столика», которую лидер группы Марк Э. Смит высмеивает в загадочных вставках на обложке. Процесс записи не затушёвывается, а выдвигается на передний план, внешнее шипение и неразборчивый кассетный шум выставляются напоказ, как импровизированный шов на каком-нибудь хаммеровском [4] монстре Франкенштейна. Характерен трек Impression of J. Temperance — история в стиле Лавкрафта, в которой «отвратительная копия» собаковода («коричневые глазницы... фиолетовые глаза... питается мусором с утилизационных барж...») блуждает по Манчестеру. Это именно weird tale, но написанная в модернистской технике сжатия и коллажа. Результат получился настолько эллиптическим, что создаётся впечатление, будто текст — частично уничтоженный илом, плесенью и водорослями — выловлен из манчестерского судоходного канала, который словно вычерпывается басом Стива Хэнли. Здесь, безусловно, присутствует смех, своеобразная форма пародии и насмешки, которую не решаешься назвать сатирой, особенно учитывая бледность и беззубость, которые сатира приобрела в британской культуре в последнее время. Однако в The Fall сатира как будто возвращается к своим истокам через гротеск. Смех The Fall раздается не со стороны здравомыслящего обывательского мейнстрима, а из психотического вне. Это сатира в онейрической манере Гиллрея, в которой инвективы и пасквили становятся бредом, (психо)тропологическим извержением ассоциаций и неприязни, истинным объектом которых является не какой-либо недостаток добропорядочности, а заблуждение, что человеческое достоинство вообще возможно. Неудивительно, что в едва слышной строке из песни City Hobgoblins Смит намекает на «Короля Убю» Жарри [5]: «Король Убю — домашний хобгоблин». Для Жарри, как и для Смита, бессвязность и незавершенность непристойного и абсурдного должны были противостоять ложной симметрии здравого смысла. Можно было бы даже сказать, что быть гротескным — это свойство человека, поскольку человек — это животное, которое не вписывается в рамки, урод природы, которому нет места в естественном порядке и который способен пересобирать творения природы в новые жуткие образы.
Звучание Grotesque — это, казалось бы, невозможная комбинация хаотичного с дисциплинированным, умственно-литературного с идиотско-физиологическим. Альбом построен вокруг оппозиции между будничным и странно-гротескным. Создаётся впечатление, что вся пластинка — ответ на гипотетическое предположение. Что, если бы рок-н-ролл зародился в промышленных районах Англии, а не в дельте Миссисипи? Рокабилли в Container Drivers или Fiery Jack замедляется мясными пирогами и подливкой, мечты о побеге смертельно отравлены пинтами горького эля и чашками чая с жирными ложками [6]. Это рок-н-ролл в кабаре в клубе для рабочих, исполняемый неудачным подражателем Джина Винсента из Прествича. «Что если?» – спекуляции проваливаются. Рок-н-ролл нуждался в бесконечных открытых шоссе; он никогда не смог бы зародиться в захламлённой кольцевыми дорогами Англии и клаустрофобных пригородах. Именно в треке The N. W. R. A. (The North Will Rise Again) конфликт между клаустрофобной обыденностью Англии и гротескно-вирдовым проявляется наиболее отчётливо. Все темы альбома сплелись в этом треке, рассказе о культурно-политических интригах, который выглядит как невероятная смесь Т. С. Элиота, Уиндема Льюиса, Герберта Уэллса, Филипа К. Дика, Лавкрафта и Джона ле Карре. Это история Романа Тотале, экстрасенса и бывшего артиста кабаре, чье тело покрыто щупальцами. Часто говорят, что Роман Тотале — одно из альтер-эго Смита; на самом деле Смит находится в таких же отношениях с Тотале, в каких Лавкрафт был с кем-то вроде Рэндольфа Картера. Тотале — это скорее персонаж, нежели личность. Нет нужды говорить, что он ни в коей мере не похож на «полноценного» персонажа, так как является носителем мифа, межтекстовой связью фрагментов криминальной хроники:
Итак, Р. Тотале обитает в подземке / Вдали от тошнотворного скрежета / В страусином головном уборе, / Лицо в беспорядке, покрытое перьями / Оранжево-красными с иссиня-чёрными линиями, / Которые ниспадают ему на грудь, / Тело — месиво щупалец / И светло-голубых голов растений.
Форма The N. W. R. A. так же чужда органической целостности, как и отвратительное щупальцеобразное тело Тотале. Это гротескная смесь, коллаж из частей, которые не принадлежат друг другу. Образцом служит новелла, а не сказка, и история рассказывается эпизодически, с нескольких точек зрения в гетероглоссном буйстве стилей и тонов: комических, журналистских, сатирических, беллетристических. Это похоже на «Зов Ктулху» Лавкрафта, переписанный Джойсом времён «Улисса» и сжатый до десяти минут. Что мы можем понять:Тотале оказывается в центре заговора (раскрытого с самого начала), цель которого — возвратить Северу его былую славу, быть может, вернуть то экономическое и промышленное верховенство викторианского периода; быть может, вернуть более древнее превосходство; быть может, принести величие, которое затмит всё, что было до этого. В представлении Смита Север — это не просто символ региональной борьбы со столицей, он олицетворяет всё, что подавляется городским хорошим вкусом: эзотерику, аномальное, вульгарное возвышенное, то есть вирдовое и гротескное. Тотале, облачённый в несуразный гротескный костюм из «страусиного головного убора», «перьев/оранжево-красных с иссиня-чёрными линиями» и «светло-голубых голов растений», — потенциальный Король фей этого странного восстания, который в итоге становится его искалеченным Королем-Рыбаком, брошенным, как модернистская мисс Хэвишем [7], среди реликтов карнавала, который никогда не состоится, слюнявым тотемом потерпевшей поражение попытки социального реализма, лидером-визионером, который по мере действия психотропов и остывания пыла снова превращается в потрёпанного артиста кабаре.
Смит возвращается к форме weird tale в альбоме The Fall 1982-го года Hex Enduction Hour, ещё одной пластинке, насыщенной отсылками к weird’у. В треке Jawbone and the Air Rifle браконьер случайно повреждает гробницу и откапывает челюстную кость, которая «несет в себе зародыш проклятия / Церкви Сломанных Братьев Пентаклей». Песня состоит из аллюзий на на рассказы М. Р. Джеймса «В назидание любопытным» и «О, свистни, и я приду к тебе, мой мальчик», «Тень над Иннсмутом» Лавкрафта, хорроры студии Hummer и фильм «Плетёный человек», и достигает кульминации в психоделическом/психотическом распаде, с толпой сельчан, вооружённых факелами, в довершение: Он видит челюстные кости на улицах, / реклама становится плотоядной, / и дорожные рабочие превращаются в челюстные кости, / он видит острова, обильно покрытые слизью. / Селяне танцуют вокруг бараков/ и смеются перекошенными ртами.
Jawbone and the Air Rifle напоминает выступления британской комедийной группы Лига джентльменов. Лихорадочный карнавал Лиги джентльменов — с его многочисленными отсылками к weird tales и частым соединением смешного с несмешным — гораздо более достойный преемник The Fall, чем большинство музыкальных групп, пытавшихся считаться с их влиянием.
Трек Iceland, записанный в покрытой лавой студии в Рейкьявике, — это встреча с угасающими мифами североевропейской культуры на той замерзшей территории, где они зародились. Здесь больше нет гротескного смеха. Песня, гипнотическая и волнообразная, медитативная и скорбная, напоминает своей арктической атмосферой костно-белые степи из The Marble Index Нико. В треке гудит ветер (с кассетной записи, сделанной Смитом), когда Смит призывает нас «бросить руны против своей собственной души», — ещё одна отсылка к М. Р. Джеймсу, на этот раз к его рассказу «Подброшенные руны». Iceland — это сумерки идолов для отступающих хобгоблинов, кобольдов и троллей weird-культуры Европы, причитания по чудовищам и мифам, чьё предсмертное дыхание фиксирует плёнка:
Свидетель последнего из богочеловеков,
Memorex для кракенов.
Примечания
[1] Я благодарен Нико Железниково и Лизе Жимковой за редактуру и переводческие решения.
[2] Имеется в виду Герберт Уэллс, которому посвящено предыдущее эссе Фишера в сборнике.
[3] Отсылка к журналу Weird tales, где свои произведения публиковал Г. Ф. Лавкрафт.
[4] Здесь Фишер упоминает классические фильмы ужасов английской студии Hammer.
Речь о пьесе предшественника абсурдизма Альфреда Жарри «Король Убю», написанной в 1894 году.
[5] Отсылка к «Жирной ложке» — собирательному названию дешёвых британских кафе с жирной пищей.
[6] Героиня романа Чарльза Диккенса «Большие надежды».
Патрик Пэрриндер, «Джеймс Джойс».
Если истории Уэллса [2] — это пример меланхоличного weird’a, то мы можем рассмотреть еще одно его измерение, подумав о взаимосвязи странного и гротеска. Как и weird, гротеск создает ощущение чего-то неуместного. Появление гротескного объекта может вызвать как смех, так и отвращение, и в своем исследовании гротеска Филипп Томсон утверждал, что гротеск часто характеризуется совместным присутствием смешного и того, что несовместимо со смешным. Эта способность вызывать смех означает, что гротеск, возможно, лучше всего понимать как особую форму weird’а. Трудно представить себе гротескный объект, который было бы нельзя воспринимать и как странный, но есть странные явления, которые не вызывают смеха — например, рассказы Лавкрафта, редкий юмор которых носит случайный характер.
Сочетание странного и гротескного лучше всего иллюстрируют песни пост-панк группы The Fall. Творчество The Fall — особенно в период между 1980 и 1982 годами — изобилует отсылками к гротеску и weird’у. Метод группы в этот период ярко отражен на обложке сингла 1980-го года City Hobgoblins, где мы видим городской пейзаж, в который вторглись «эмигранты со старых зелёных полян»; над полуразрушенным домом нависает ухмыляющийся злобный кобольд. Но вместо того, чтобы быть органично вписанным в фотографическую сцену, грубо нарисованный хобгоблин изображён на заднем плане. Это война миров, онтологическая борьба, борьба за средства репрезентации. С точки зрения официальной буржуазной культуры и её категорий, такая группа, как The Fall (экспериментаторы и поп-модернисты из рабочего класса), не могла и не должна была существовать, и The Fall замечательны тем, как они продвигали культурную политику weird’а и гротеска. The Fall произвели на свет то, что можно назвать популярным модернистским weird’ом, где странное организует как форму, так и содержание произведения. The weird tale [3] сближается со странностями модернизма — его остранением, сочетанием элементов, ранее считавшихся несочетаемыми, суггестией, вызовом стандартным шаблонам удобочитаемости — и со всеми трудностями и компульсиями постпанк-звучания.
Многое из этого, хотя и в неясной и загадочной форме, собрано воедино на альбоме The Fall 1980-го года Grotesque (After the Gramme). Непонятные отсылки к «черничным маскам», «человеку с бабочками на лице», «страусиному головному убору» и «светло-голубым головам растений» начинают обретать смысл, когда понимаешь, что, по описанию Пэрриндера, приведённому выше, гротеск изначально обозначал «фигуры людей и животных, перемешанных с листвой, цветами и фруктами в фантастических узорах, которые не имели никакого отношения к логическим категориям классического искусства».
Песни в альбоме Grotesque — это сказки, но сказки недосказанные. Слова отрывочны, будто дошли до нас по ненадёжному каналу постоянно прерывающейся связи. Точки зрения смещены, онтологические границы между автором, тестом и персонажем расплывчаты и изломаны. Невозможно окончательно отделить слова рассказчика от прямой речи. Треки представляют собой палимпсесты, плохо записанные в нарочитом отказе от эстетики «кофейного столика», которую лидер группы Марк Э. Смит высмеивает в загадочных вставках на обложке. Процесс записи не затушёвывается, а выдвигается на передний план, внешнее шипение и неразборчивый кассетный шум выставляются напоказ, как импровизированный шов на каком-нибудь хаммеровском [4] монстре Франкенштейна. Характерен трек Impression of J. Temperance — история в стиле Лавкрафта, в которой «отвратительная копия» собаковода («коричневые глазницы... фиолетовые глаза... питается мусором с утилизационных барж...») блуждает по Манчестеру. Это именно weird tale, но написанная в модернистской технике сжатия и коллажа. Результат получился настолько эллиптическим, что создаётся впечатление, будто текст — частично уничтоженный илом, плесенью и водорослями — выловлен из манчестерского судоходного канала, который словно вычерпывается басом Стива Хэнли. Здесь, безусловно, присутствует смех, своеобразная форма пародии и насмешки, которую не решаешься назвать сатирой, особенно учитывая бледность и беззубость, которые сатира приобрела в британской культуре в последнее время. Однако в The Fall сатира как будто возвращается к своим истокам через гротеск. Смех The Fall раздается не со стороны здравомыслящего обывательского мейнстрима, а из психотического вне. Это сатира в онейрической манере Гиллрея, в которой инвективы и пасквили становятся бредом, (психо)тропологическим извержением ассоциаций и неприязни, истинным объектом которых является не какой-либо недостаток добропорядочности, а заблуждение, что человеческое достоинство вообще возможно. Неудивительно, что в едва слышной строке из песни City Hobgoblins Смит намекает на «Короля Убю» Жарри [5]: «Король Убю — домашний хобгоблин». Для Жарри, как и для Смита, бессвязность и незавершенность непристойного и абсурдного должны были противостоять ложной симметрии здравого смысла. Можно было бы даже сказать, что быть гротескным — это свойство человека, поскольку человек — это животное, которое не вписывается в рамки, урод природы, которому нет места в естественном порядке и который способен пересобирать творения природы в новые жуткие образы.
Звучание Grotesque — это, казалось бы, невозможная комбинация хаотичного с дисциплинированным, умственно-литературного с идиотско-физиологическим. Альбом построен вокруг оппозиции между будничным и странно-гротескным. Создаётся впечатление, что вся пластинка — ответ на гипотетическое предположение. Что, если бы рок-н-ролл зародился в промышленных районах Англии, а не в дельте Миссисипи? Рокабилли в Container Drivers или Fiery Jack замедляется мясными пирогами и подливкой, мечты о побеге смертельно отравлены пинтами горького эля и чашками чая с жирными ложками [6]. Это рок-н-ролл в кабаре в клубе для рабочих, исполняемый неудачным подражателем Джина Винсента из Прествича. «Что если?» – спекуляции проваливаются. Рок-н-ролл нуждался в бесконечных открытых шоссе; он никогда не смог бы зародиться в захламлённой кольцевыми дорогами Англии и клаустрофобных пригородах. Именно в треке The N. W. R. A. (The North Will Rise Again) конфликт между клаустрофобной обыденностью Англии и гротескно-вирдовым проявляется наиболее отчётливо. Все темы альбома сплелись в этом треке, рассказе о культурно-политических интригах, который выглядит как невероятная смесь Т. С. Элиота, Уиндема Льюиса, Герберта Уэллса, Филипа К. Дика, Лавкрафта и Джона ле Карре. Это история Романа Тотале, экстрасенса и бывшего артиста кабаре, чье тело покрыто щупальцами. Часто говорят, что Роман Тотале — одно из альтер-эго Смита; на самом деле Смит находится в таких же отношениях с Тотале, в каких Лавкрафт был с кем-то вроде Рэндольфа Картера. Тотале — это скорее персонаж, нежели личность. Нет нужды говорить, что он ни в коей мере не похож на «полноценного» персонажа, так как является носителем мифа, межтекстовой связью фрагментов криминальной хроники:
Итак, Р. Тотале обитает в подземке / Вдали от тошнотворного скрежета / В страусином головном уборе, / Лицо в беспорядке, покрытое перьями / Оранжево-красными с иссиня-чёрными линиями, / Которые ниспадают ему на грудь, / Тело — месиво щупалец / И светло-голубых голов растений.
Форма The N. W. R. A. так же чужда органической целостности, как и отвратительное щупальцеобразное тело Тотале. Это гротескная смесь, коллаж из частей, которые не принадлежат друг другу. Образцом служит новелла, а не сказка, и история рассказывается эпизодически, с нескольких точек зрения в гетероглоссном буйстве стилей и тонов: комических, журналистских, сатирических, беллетристических. Это похоже на «Зов Ктулху» Лавкрафта, переписанный Джойсом времён «Улисса» и сжатый до десяти минут. Что мы можем понять:Тотале оказывается в центре заговора (раскрытого с самого начала), цель которого — возвратить Северу его былую славу, быть может, вернуть то экономическое и промышленное верховенство викторианского периода; быть может, вернуть более древнее превосходство; быть может, принести величие, которое затмит всё, что было до этого. В представлении Смита Север — это не просто символ региональной борьбы со столицей, он олицетворяет всё, что подавляется городским хорошим вкусом: эзотерику, аномальное, вульгарное возвышенное, то есть вирдовое и гротескное. Тотале, облачённый в несуразный гротескный костюм из «страусиного головного убора», «перьев/оранжево-красных с иссиня-чёрными линиями» и «светло-голубых голов растений», — потенциальный Король фей этого странного восстания, который в итоге становится его искалеченным Королем-Рыбаком, брошенным, как модернистская мисс Хэвишем [7], среди реликтов карнавала, который никогда не состоится, слюнявым тотемом потерпевшей поражение попытки социального реализма, лидером-визионером, который по мере действия психотропов и остывания пыла снова превращается в потрёпанного артиста кабаре.
Смит возвращается к форме weird tale в альбоме The Fall 1982-го года Hex Enduction Hour, ещё одной пластинке, насыщенной отсылками к weird’у. В треке Jawbone and the Air Rifle браконьер случайно повреждает гробницу и откапывает челюстную кость, которая «несет в себе зародыш проклятия / Церкви Сломанных Братьев Пентаклей». Песня состоит из аллюзий на на рассказы М. Р. Джеймса «В назидание любопытным» и «О, свистни, и я приду к тебе, мой мальчик», «Тень над Иннсмутом» Лавкрафта, хорроры студии Hummer и фильм «Плетёный человек», и достигает кульминации в психоделическом/психотическом распаде, с толпой сельчан, вооружённых факелами, в довершение: Он видит челюстные кости на улицах, / реклама становится плотоядной, / и дорожные рабочие превращаются в челюстные кости, / он видит острова, обильно покрытые слизью. / Селяне танцуют вокруг бараков/ и смеются перекошенными ртами.
Jawbone and the Air Rifle напоминает выступления британской комедийной группы Лига джентльменов. Лихорадочный карнавал Лиги джентльменов — с его многочисленными отсылками к weird tales и частым соединением смешного с несмешным — гораздо более достойный преемник The Fall, чем большинство музыкальных групп, пытавшихся считаться с их влиянием.
Трек Iceland, записанный в покрытой лавой студии в Рейкьявике, — это встреча с угасающими мифами североевропейской культуры на той замерзшей территории, где они зародились. Здесь больше нет гротескного смеха. Песня, гипнотическая и волнообразная, медитативная и скорбная, напоминает своей арктической атмосферой костно-белые степи из The Marble Index Нико. В треке гудит ветер (с кассетной записи, сделанной Смитом), когда Смит призывает нас «бросить руны против своей собственной души», — ещё одна отсылка к М. Р. Джеймсу, на этот раз к его рассказу «Подброшенные руны». Iceland — это сумерки идолов для отступающих хобгоблинов, кобольдов и троллей weird-культуры Европы, причитания по чудовищам и мифам, чьё предсмертное дыхание фиксирует плёнка:
Свидетель последнего из богочеловеков,
Memorex для кракенов.
Примечания
[1] Я благодарен Нико Железниково и Лизе Жимковой за редактуру и переводческие решения.
[2] Имеется в виду Герберт Уэллс, которому посвящено предыдущее эссе Фишера в сборнике.
[3] Отсылка к журналу Weird tales, где свои произведения публиковал Г. Ф. Лавкрафт.
[4] Здесь Фишер упоминает классические фильмы ужасов английской студии Hammer.
Речь о пьесе предшественника абсурдизма Альфреда Жарри «Король Убю», написанной в 1894 году.
[5] Отсылка к «Жирной ложке» — собирательному названию дешёвых британских кафе с жирной пищей.
[6] Героиня романа Чарльза Диккенса «Большие надежды».

Родился в 2001 году. Студент 5 курса Литературного института, исследователь weird-литературы, поэт. Публиковался в журнале «Кварта», на порталах «полутона», syg.ma и «Хижа». Живёт в Москве.
МИХАИЛ ПОСТНИКОВ